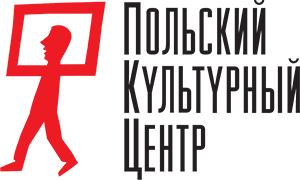Моё знакомство с Гротовским было сначала чисто литературным (в 1960–е гг. о нём как раз начали много писать польские театральные журналы и газеты), а потом неожиданно продолжилось… в научной среде. И в том, и в другом случае оно было, разумеется, односторонним: я о нём знала, как мне казалось, довольно много, а он обо мне — ничего. Но так продолжалось недолго.
Впервые я увидела этого человека, об удивительном театре которого уже тогда кружили полу-сенсационные слухи, на научной конференции, посвящённой режиссёрской деятельности Эдмунда Верцинского. Так как я была «заграничной гостьей», устроители конференции любезно усадили меня в первом ряду, и тут я оказалась лицом к лицу (зал был небольшой) с человеком в темно-синих очках. Атмосфера была неофициальной, никакого президиума, конечно, не было, а был небольшой столик и за ним — три-четыре человека. Человек в тёмных очках был одним из них. За столом сидели маститые критики, историки театра, профессура варшавской Высшей Театральной Школы… Человек в тёмных очках был одним из них, но был намного моложе. Круглое, полноватое, гладко выбритое лицо, чинный пиджак, чёрный узкий галстук. «Доцент, — решила я, — а может быть аспирант… Интересно, что он скажет». И он, действительно, что-то сказал. Но чувствовалось: то ли атмосфера самой конференции (её «формат», как сказали бы сегодня), то ли необходимость что-то «обязательно сказать» стесняли его. А ведь впоследствии, через несколько лет, Гротовский проводил с в о и к о н ф е р е н ц и и (со зрителями, режиссерами, актерами — со в с е м и людьми, желавшими с ним поговорить) невероятно оживлённо, ярко и шумно – по ч е т ы р е часа — на любом континенте, в любой стране, в любой аудитории! Но в тот, в первый раз, он был тих и как-то странно застенчив. Однако узнав, что я (то есть его визави) из Москвы, стал ко мне – сквозь тёмные очки — как бы присматриваться. И это тоже показалось мне немного странным. Только впоследствии, через несколько лет, я поняла смысл этого изучающего «вглядывания».
Познакомил нас Людвик Фляшен, литературный сотрудник Ежи Гротовского. Он и рассказал мне как возник незадолго до этого в маленьком городке Ополе совершенно ни на что не похожий театр, который они, молодые выпускники краковской Высшей Театральной Школы решили назвать «Бедным». Он же и привёл меня на спектакль «Акрополь», первый из трёх великих спектаклей Бедного Театра.
Личность Ежи Гротовского едва ли дождётся полноты описания (впрочем, как и любого человека, если он л и ч н о с т ь). Её «неуловимость», о которой не раз приходилось читать, происходила, думается, не из какой-то мистической таинственности, а из постоянной внутренней готовности м е н я т ь с я, из совершенно особенной пластичности, лабильности, подвижности характера. Вместе с тем, была в нём и какая-то очень тонкая, но абсолютно «стальная» игла (или пружина?) – некая ничем и никем неотменяемая сила, державшая его совсем не сильный и, в общем, болезненный организм в постоянной внутренней готовности. К чему – готовности? Гротовский мог работать и репетировать с актёрами долгими часами, не замечая смены дня и ночи, мог выдерживать опасные переезды и путешествия в условиях, весьма далёких от туристического комфорта, мог подолгу ничего не есть и не спать сутками… Он проходил длительные и мучительные медицинские процедуры, беспрерывно курил и пил кофе. Он работал ночами и бодрствовал днём. Но его внутренняя г о т о в н о с т ь была на самом деле неотменима. Один из немногих людей среди всех нас он следовал простому закону: то, что советуешь сделать другому — сначала испытай на себе.
Гротовский был исследователем. Его театр был лабораторией. Он исследовал возможности человеческого организма актёра в процессе творчества, а результаты исследований предъявлял (зрителям, слушателям, всем желающим, всем собравшимся) в виде некоего оформленного действия. Для такой исследовательской работы он избрал актёра, потому что нет на свете другого такого существа (и другого такого ф е н о м е н а существования и рода деятельности) как актер, который мог бы себя отдать полностью в эксперимент. Отдать надолго, фактически на многие месяцы и даже годы. Впрочем, слова «эксперимент» Гротовский не любил, предпочитая простое слово «работа».
Можно только сожалеть, что наши зрители так и не видели трёх великих спектаклей Бедного Театра: «Акрополя», «Стойкого принца» и «Апокалипса», как, впрочем, не видели вообще ни одного из его спектаклей. По не совсем понятным для меня причинам «Бедный театр» Гротовского попал, что называется, «на индекс» и стал «невъездным». Так же как, на некоторое время, и его создатель.
Переводить некоторые статьи Гротовского – скажу точнее, записи его бесед или интервью, так как он сначала говорил с собеседником, а потом тщательно правил текст – я начала почти сразу же, как только они стали появляться в польской (а вскоре и во французской) печати, но опубликовать из них до 1989 года не удавалось ничего. Между тем, внутри самой Польши слава маленького провинциального, до тех пор почти никому не известного, Бедного Театра росла. За нею пришла слава международная – ей немало способствовали появление книги «На пути к Бедному театру» (на английском языке), успех на Международном фестивале БИТЕФ, публикации его первого заграничного стажёра Эудженио Барбы и, конечно, гастроли.
В начале 1971 года, после долгих переговоров и согласований, обменов телеграммами и так трудно в то время достававшимися международными звонками, мне удалось вывезти в Польшу, в г. Вроцлав, где в то время уже обосновался театр Гротовского, группу искусствоведов и критиков (в основном из московского Института искусствознания). Цель поездки была ясной: люди, не чуждые искусству, всё-таки должны были увидеть последний по времени, совсем «свежий», удивительный и уже давно знакомый Европе и Америке, спектакль «Апокалипс».
Мы радостно готовились к этой встрече. Но подготовился и Гротовский. Он вообще благоволил к гостям из нашей страны — ведь он считал себя продолжателем дела великого Станиславского, и не однажды в своих выступлениях заявлял об этом.
В Варшаве нас встретил огромный комфортабельный автобус с двумя водителями. Сменяя друг друга, они везли нас ночь и день во Вроцлав, и привезли к самому началу спектакля. Театр помещался возле центральной площади, в двух шагах от знаменитой ратуши, в узеньком переулке, куда надо было проходить под аркой, в высоком кирпичном здании. Зрительный зал находился на самой «верхотуре», к нему вела бесконечная, как казалось, лестница со многими и тоже бесконечными поворотами… Мы преодолели её одним махом. В дверях зала нас ждал Гротовский. И тут я увидела совершенно другого, совершенно незнакомого мне человека! Тонкого как тростник, со столь же тонко обрисованными чертами лица, со светлыми, до плеч, волосами, в легком джинсовом костюмчике. Мне удалось удержаться от возгласа изумления (не помню, может Фляшен уже писал мне, что я увижу д р у г о г о Гротовского?) Изумлений по этому поводу в польской и мировой прессе и так слишком много звучало в начале 1970-х годов: из двух? месячных гастролей в Индии театр вернулся именно с таким, совершенно и н ы м Гротовским. Его не узнали собственные актёры (они остались выступать в Дели, а он у ш ё л в Индию), не узнали, по возвращении в Польшу, друзья, не узнал родной брат. Только мать узнала его. Таинственная, почти мистическая причина внешнего преображения человека, вероятно, тоже возможна, но едва ли она возможна без каких-либо внутренних «сдвигов». Однако Гротовский не любил распространяться на эту тему. Он рассказал в одной из бесед, что более месяца ничего не ел (опасался экзотической бациллы), а только пил воду (из герметично завинченных бутылочек).
Когда мы немножко пришли в себя после потрясения, испытанного на спектакле «Апокалипс», Гротовский устроил тут же, в том же зале, где только что отзвучал спектакль, маленькое собеседование с нами. Мы уселись вокруг него в кружок. Его интересовало всё: и что и кого «задело за живое», и что осталось неясным, и что было понятно, а что – почти невыносимо. И сам охотно отвечал на вопросы. Русского языка он не знал (вернее, «немного помнил по школе, но потом подзабыл»), но очень внимательно следил за моим устным переводом, и каким-то образом всё понимал. Именно тогда я получила от него первое, едва слышное, деликатно прошёптанное почти в ухо замечание, которое запомнила навсегда: «прошу переводить, но не интерпретировать». (Как это было похоже! Всего за какой-то год до этого вот так же Конрад Свинарский, на сцене, когда я, повторяя за ним его указания, стала угрожающе помахивать бутафорским пистолетом – уж очень надоели актёры! – тихо сказал мне на ухо: «прошу переводить, но не режиссировать».) И именно тогда, мне кажется, я поняла, почему – вернее, зачем, с какой целью? – за несколько лет до этого, на научной конференции, посвящённой Эдмунду Верцинскому, неизвестный «доцент» пристально разглядывал, изучая сквозь тёмные очки и поверх очков, свою «заграничную визави»…Он искал себе со-трудницу.
У с и л и е работы Гротовский очень ценил. Иной с и л ы он не признавал. Может быть – не замечал? На одной из конференций, когда его международная слава была на пике, а в залах собирались тысячи человек, из задних рядов прозвучал провокационный вопрос: «Вы позволите сесть на ваше место?» Гротовский парировал мгновенно: «Пожалуйте, только в р а б о т е». Полемист он был отменный. Свободно изъяснялся на двух языках (польском и французском; в последние годы прибавился итальянский). Но у него был своеобразный стиль ответов публике: сколь бы сложным (или, наоборот, простодушным) ни был вопрос, он всегда максимально серьёзно и полно на него отвечал. Но если вопрос почему-либо не нравился ему – ответа не было. Гротовский делал вид, что не слышит его. Иногда он применял одну из своих маленьких хитростей: если его донимали теоретики или философы, он говорил: «помилуйте, я всего лишь практик…», если же на него наседали, требуя практического р е ц е п т а, режиссёры и актёры — ответ был тоже готов: «я же философ театра…».
По возвращении из поездки во Вроцлав наша группа искусствоведов по горячим следам впечатлений сочинила коллективную большую статью о «вроцлавском чуде». Рассказывать о том, с каким трудом она проходила через всевозможные, неясные нам, препоны (несмотря на доброжелательную поддержку редакции журнала «Театр»), едва ли имеет смысл, скажу только – она прошла!
Намного позже, уже в 2001 году, я повезла во Вроцлав нескольких молодых энтузиастов, участников любительской театральной группы «Тот». Их радости не было конца: то, что раньше было для них легендой, становилось осязаемой явью. В «том самом», знаменитом зале они показали свой спектакль «Хронопы» (по Кортасару); участвовали в занятиях по актёрскому треннингу; вечерами смотрели видео-записи лучших европейских спектаклей. Из недр маленького музея Центра Гротовского его неизменный хранитель извлёк (специально для них) легендарный алый плащ «Стойкого принца» с навсегда впечатанным в него – ожогом – дыханием актёра Ришарда Чесляка – следами огненной энергии действующего актёра.
Как и все великие люди, Гротовский был наивен. Открывая впервые в театральной антропологии глубоко подсознательные пласты актёра – существа человеческого – сам удивлялся открывавшимся тайнам: радовался светлым, огорчался тёмным, недобрым. Но никогда не закрывал глаза перед о п а с н о с т ь ю. Такой главной опасностью ХХ и ХХI века он считал расщепление, «раздрызг» человеческой ц е л о с т н о с т и. Но противоречий – любых – не боялся, не сторонился, напротив – только приветствовал: «это – не горе, это всего лишь аспекты…», – говорил он, утешая недовольную мужем жену.
Его критики часто писали, что спектаклям Бедного театра – как и самому его создателю – не хватает юмора в восприятии жизни. Это правда. Но с м е ш н о е Гротовскому вовсе не было чуждо: одна из актрис вспоминала, как на репетициях «Сакунталы» Калидасы он внезапно взял большие ножницы и криво-нелепо обрезал края прелестных «индийских» шароварчиков, которыми она очень гордилась, и как они тут же стали нелепыми и смешными… Ничто человеческое не было ему чуждо, в том числе способность заблуждаться и ошибаться: к примеру (разумеется, на мой субъективный взгляд), он всерьёз считал конец ХХ века (и век следующий, приближающийся) веком торжества п р о ф е с с и о н а л и з м а, а в искусстве – в особенности. Что же нам, на самом деле, показал ХХI век?
Хотя в нашей стране так и не увидели спектаклей Гротовского, его самого не только увидели, но и услышали. Это случилось в 1976(?) году. К этому времени уже появлялись в печати переводы некоторых его бесед-статей; на стажировку к нему стали ездить наши молодые режиссеры и актёры; творческим восприемником некоторых «гротовских» идей обнаружил себя превосходный (и тоже загадочный) режиссёр Анатолий Васильев; были попытки создания своих «бедных театров»… Имя Гротовского по-прежнему было синонимом свободных исканий в сценическом искусстве, хотя ни понятия «сцены» (с её четвёртой стеной), ни даже понятия «искусства» для самого Гротовского к тому времени уже не существовало: он начинал работу над совсем другими программами (так называемого пара-театра , предполагавшими нечто противоположное: в ы х о д за пределы театра.
Но в 1976 году он всё-таки сам приехал в Москву. Он продолжал — для нас — быть символом и образцом, а себя он мыслил продолжателем великого дела другого человека, Станиславского. Связывавшие Гротовского со Станиславским творческие импульсы – не вымысел. Станиславский тоже вникал в тайные сферы сознания и под (сверх) сознания человека-актёра, тоже интересовался йогой (об этом писал петербургский театровед профессор Черкасский); сам Гротовский всегда говорил, что «продолжил исследования там, где Станиславский поставил точку, и то только потому, что умер». Но самой плодотворной была его собственная позиция; обычно на вопросы о Станиславском он терпеливо и обстоятельно отвечал, но однажды почти рассердился. Это было на одной из конференций-бесед с собравшимися: «Зачем ты спрашиваешь меня, жив или устарел сегодня Станиславский?! – крикнул он в зал, – дай с в о й ответ Станиславскому!» Лучше не скажешь.
На встречу с Гротовским собрался, можно сказать, весь цвет советской режиссуры: пришли Георгий Александрович Товстоногов, Олег Ефремов, Юрий Любимов, Вольдемар Пансо, Серафима Бирман, с ним был польский режиссёр Е.Яроцкий. Задавали множество вопросов о его актуальной практике. Нельзя сказать, что его выступление было Словом Мэтра: ведь все собравшиеся «великие» были старше него… Кроме того, русская школа режиссуры стояла на превосходном фундаменте не только системы Станиславского, но и опыта Михаила Чехова. У меня, во всяком случае, было такое ощущение, что Гротовский приехал вовсе не за тем, чтоб «учить», а скорей, чтобы самому что-то узнать – до сих пор ему неизвестное, неизведанное. Всю первую половину своего выступления он посвятил своему другу, рано погибшему гениальному режиссёру Конраду Свинарскому, во второй половине кое-что, отвечая на вопросы, рассказал о своих прославленных спектаклях. Н о в а я, начатая им работа, н о в ы е замыслы – всё это как-то повисло в воздухе. К тому же, следует помнить о том, что некоторые моменты в театральной практике Гротовского на самом деле дискуссионны. Но в тот день дискуссии не состоялось…
Он редко рассказывал что-либо о себе. Но однажды признался, и на вопрос «Чего ты боишься?» ответил: «Ничего». – «А всё-таки?» – «Что меня убьют». Тут я воспользуюсь записью одного американского эпизода, сделанной польским журналистом Анджеем Бонарским. Гротовский ехал ночью попутным «грузовичком» (он вообще часто пользовался автостопом, своей машины у него не было) из одного заштатного американского городка в другой. В кузове было ещё только двое плохо различимых парней. Из их разговора (угадали, что иностранец — не думали, что понимает) он уловил, что они сговариваются выбросить его на полном ходу из машины. Почему? За что? Просто так. Не «свой» – чужой какой-то… Машина мчалась, и те двое принялись за дело. Но Гротовский, по его словам, крепко вцепился в борт. Пока боролись, машина вкатилась в городок… Парни сами поскакали за борт.
Он действительно ничего не боялся. Да и чего ему было бояться? В 14 лет врачи были готовы навсегда приковать его к постели. Но он встал и пошёл. В 1982 году, после введения в Польше военного положения, его приехали арестовать (будем точнее — интернировать), но не застали: он работал с актёрами далеко от Вроцлава, в заброшенном сельском амбаре. Приехав туда – удивились: были сведения, что он «очень богат», а тут несколько деревянных лавок, бочка с водой… Существовал миф, что Гротовский – то ли общей своей магической силой, то ли магической силой одного только взгляда – изменил небесную трассу самолётных рейсов над всем вроцлавским воеводством. Самое забавное, что он действительно изменил какую-то небесную трассу: он просто умел говорить с людьми. В небе, недалеко от того места, где в амбаре до поздней ночи шла работа с актёрами, с раннего утра ревели самолёты. Гротовский поехал к руководству авиабазой и попросил… тишины. Но когда уже совсем неотвратимо наступил декабрь 1981 [в Польше было введено военное положение – прим. ПКЦ], он прервал работу над «Театром истоков» и выехал из страны, которую очень любил, простым беженцем.
Свою «русскую» (то есть на русском языке, наконец-то!) книгу Гротовский очень ждал, и мы, практически, но уже только по переписке, работали над ней вместе. Сам он в это время работал в Италии, где недалеко от Флоренции, в Понтедере, у него была своя Мастерская, и куда добраться я в то время, несмотря на его приглашение («на три-четыре дня, для работы над переводом «Перформера») уже не успела… Зато мне была дана возможность Институтом Гротовского во Вроцлаве (и куратором его научно – культурологических программ проф. Збигневом Осинским) возможность в течении двух месяцев жить и работать в маленькой комнате Гротовского в здании Бедного театра, работать в его библиотеке и богатой фото- и фонотеке.
Издать книгу «Гротовский. От Бедного театра к Искусству-проводнику» мне помогли, можно сказать, «всем миром». Не говоря уж об инициаторах этого издания с нашей стороны – Сергее Никулине, Александре Калягине, Михаиле Швыдком – активно включились польский Институт Адама Мицкевича, творческие наследники Гротовского (а других у него не было) Томас Ричардс и Марио Биаджини; многолетний его единомышленник Людвик Фляшен и «совсем не любивший Гротовского» (как мне доверительно сообщили) Кшиштоф Занусси… Всем им я сохраняю искреннюю благодарность. Книга Гротовского разошлась в три месяца; люди с дальней периферии просили всех тех, кто ехал в Москву или Петербург, её обязательно привезти. Люди, неизвестные Гротовскому, хотели что-то знать о нём, для них неизвестном. Может ли быть больший дар во взаимной – я всё-таки верю – любви?
Натэлла Захаровна Башинджагян
Фот. Портрет Ежи Гротовского, работа Збигнева Кресоватого (Zbigniew Kresowaty). Wikimedia Commons.