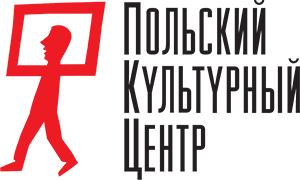21 марта 2021 года – в Международный День Поэзии – в вечность ушел Адам Загаевский. Известный в мире польский поэт и эссеист, которого высоко ценили и с которым были дружны Чеслав Милош и Иосиф Бродский.
Впервые я увидел Адама в 1999 году во время проходившего под лозунгом “Краковские встречи знаменитостей” празднования 40-летия издательства “ЗНАК”. И тогда же впервые услышал его незабываемую и мелодически неповторимую манеру чтения своих стихов, своеобразие которой трудно описать, но, однажды услышав, уже нельзя забыть.
Первая личная встреча состоялась в 2002 году, уже после возвращения Адама в Краков из Парижа, где он прожил 20 лет. Место встречи – характерное и привычное для поэтического Кракова, на улице Братской, за чашечкой кофе в кофейне ”Новая Провинция”. Вспоминаю пятую годовщину ухода Збигнева Херберта, вечер в переполненном зале Бункера Искусств на Плантах в 2003 году, за столом ведущего Рышарда Крыницкого сидели Вислава Шимборская и Адам Загаевский. Помню встречу в квартире поэта на улице Кармелицкой и встречу в доме Рышарда Крыницкого, куда Адам приехал с женой, актрисой, переводчицей и красавицей Майей Водецкой. Не хватало Эвы Липской, которая тоже собиралась на эту встречу. Все ведущие представители знаменитого поэтического направления “Новая волна”. В любом случае, это была приятная долгая встреча, из тех, что запоминаются навсегда. За рулем автомобиля, на котором мы покидали гостеприимный дом Рышарда Крыницкого, был Адам Загаевский. На Всемирных Конгрессах переводчиков польской литературы, на фестивалях Милоша, на польско-американских поэтических семинарах, проходивших в Кракове в начале двухтысячных, мы всегда встречались с Адамом Загаевским, который был их деятельным участником. Так было и 27 августа 2004 года, в день прощания с Чеславом Милошем, на “вечорнице”, поэтическом вечере в костеле Святой Катажины.
Последняя наша встреча состоялась в Кракове в сентябре 2019 года, за полгода до пандемии. Кто же мог знать, что это наша последняя встреча?
11 апреля 2021 г., св. Месса для Адама Загаевского прозвучала в Базилике св. Флориана в Кракове. А уже традиционная для Кракова “поэтическая вечорница“ в костеле Святой Катажины, посвященная памяти Адама Загаевского, в связи с пандемией, должна состояться летом 2021 года. Тогда же урна с прахом Поэта упокоится в Национальном Пантеоне в Костёле Святых Петра и Павла в Кракове.
Адам Загаевский – фигура, без которой не представить поэтическую жизнь Польши в конце ХХ и начале ХXI века – ушел во “второе пространство”. Но остались стихи, главное детище Поэта, которые живут и будут жить, и встречи с ними, а значит, и с Поэтом, не кончаются.
Анатолий Ройтман
АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ
АВТОПОРТРЕТ
Между компьютером, карандашом и пишущей машинкой
проходит полдня у меня. Когда-нибудь из этого сложится полвека.
Я живу в чужих городах и беседую иногда
с чужими людьми о чуждых мне вещах.
Много слушаю музыки: Бах, Малер, Шопен, Шостакович.
В музыке нахожу силу, слабость и боль, три стихии.
Четвертая безымянна.
Читаю поэтов, живых и умерших, учусь у них
стойкости, вере и гордости. Пытаюсь понять
великих философов – чаще всего удается
ухватить лишь обрывки их драгоценных мыслей.
Люблю подолгу гулять по улицам Парижа
и смотреть на моих ближних, завистью оживленных,
вожделением или гневом; следить за серебряной монетой,
которая переходит из рук в руки и постепенно теряет
свою округлую форму (императора профиль стирая).
Тут же, рядом, растут деревья, ничего не выражая,
если не считать зеленого, равнодушного совершенства.
По полям ступают черные птицы,
чего-то все еще ждущие, терпеливые, как испанские вдовы.
Я немолод уже, но все еще есть те, кто старше.
Люблю я глубокий сон, когда меня нет,
люблю быстро промчаться на велике сельским шоссе, где тополя и дома
растворяются как облачка на безмятежном небе.
Порою со мной говорят картины в музеях
и вдруг исчезает ирония.
Обожаю смотреть на лицо моей жены.
Еженедельно, по воскресеньям, звоню отцу.
Раз в две недели встречаюсь с друзьями,
таким образом мы сохраняем верность себе.
Страна моя освободилась от зла. Одного.
Я бы хотел вслед за ним и другого освобожденья.
Могу ли быть в этом полезным? Не знаю.
Я, если правду сказать, не дитя моря,
как написал о себе Антонио Мачадо,
но дитя воздуха, мяты и виолончели,
и не все пути высокого мира
сходятся с тропками жизни, которая,
пока, принадлежит мне.
РАННЕЕ УТРО В ВЕЧЕНЦЕ
In memoriam Иосифа Бродского,
Кшиштофа Кесьлёвского
Солнце было так нежно, так юно,
что мы за него опасались; неловким движеньем руки
можно было его поцарапать, даже крик – если б кто-то хотел
крикнуть – ему угрожал; лишь разогнавшимся ласточкам
с крыльями, твердыми, словно отлитыми из чугуна,
дозволялось громко свистеть, ведь они провели короткое,
беспокойства полное детство в глиняных гнездах,
вместе с родней, небольшими шальными планетами,
черными, как лесные ягоды.
В небольшом кафе полусонный гарсон – под его глазами
собрались последние тени ночи – в поисках мелочи шарил
в бездонном кармане, а кофе отдавал торжеством
типографской краски, сладостью и Аравией. Неба голубизна
обещала долгие предвечерья, не кончающийся день.
Я смотрел на тебя, будто видел тебя впервые.
И даже колонны Палладия, так казалось,
только что родились, вынырнув из волн рассвета,
как твоя старшая подружка, Венера.
Начинать заново, считать потери, считать погибших,
начинать новый день, хотя вас уже нет, тебя,
кого дважды мы похоронили и оплакали дважды, –
ты жил в два раза мощнее других, на двух континентах,
в двух языках, в яви и в воображении – и тебя, с суровым лицом
и взглядом, увеличивавшим предметы и сердца, всегда
[слишком малые.
Нет вас и потому мы будем теперь вести жизнь двойную,
одновременно в свете и в тени, в ярком солнце дня
и в холоде каменных коридоров, в печали и в радости.
МИСТИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
День был ласковым, свет дружелюбным.
Этот немец на террасе кафе
держал на коленях небольшую книжку.
Мне удалось увидеть ее названье:
Мистика для начинающих.
Сразу я понял, что ласточки,
те, что, свистя пронзительно,
патрулировали улицы Монтепульчано,
и негромкие разговоры оробевших туристов
из Восточной Европы, называемой Центральной,
и белые цапли, стоявшие – вчера, позавчера? –
в рисовых полях, как монахини,
и закат, неспешный и постепенный,
затирающий контуры средневековых домов,
и на невзрачных холмах масличные деревья,
открытые ветрам и пожарам,
и голова Неизвестной княжны,
которой я восторгался в Лувре,
и витражи в костелах как бабочек крылья,
испачканные цветочной пыльцой,
и соловей, тут же, у автострады,
репетировавший свое выступление,
и путешествия, все путешествия,
это была только мистика для начинающих,
вводный курс, пролегомены
к экзамену, отложенному
на более поздний срок.
ТЕМА: БРОДСКИЙ
Прошу записать: рожденный в мае,
во влажном городе (отсюда мотив: вода),
вскоре затем осажденном армией,
офицеры которой в вещмешке носили
том Гёльдерлина, но, увы, времени не имели,
чтоб читать. На местности слишком много работы.
Тон – сардонический, отчаянье – настоящее.
Беспрестанно в поездке, от Мексики до Венеции,
любовник и оратор, который неутомимо
агитировал за свою непрактичную партию
(названье ее: Поэзия versus Бесконечность,
или ПvБ для любящих сокращенья).
В каждом городе, в каждом порту
имел своих агентов; иногда пел стихи
перед толпой восхищенной, которая ничего
не понимала – потом, усталый, курил gauloise
на бетонной набережной, а чайки над ним кружили
так, как над Балтикой, дома.
Гигантская интеллигентность. Любимая тема: время
versus мысль, которая преследует фантомы,
оживляет Марию Стюарт, Тиберия и Дедала.
Поэзия представлялась как конные скачки:
необъезженны кони, наездники – из мрамора,
финиш – невидим, в облаках исчезает.
Прошу запомнить: ирония и боль;
боль давно проживала в сердце
и росла все сильнее – так,
словно каждая им написанная элегия
эгоистично любила его и желала,
чтобы именно он был ее героем –
но, прошу вас – терпенье,
сейчас мы закончим – и впрямь я не знаю,
как передать вот что: эту почти что чуткость,
и улыбку, почти что робкую,
миг колебания, мягкость, короткий
перерыв в аргументации.
ГРЕКИ
Может, я бы хотел быть современником греков,
разговаривать с учениками Софокла,
постигать серьезность тайных мистерий,
но когда я родился, еще жил и правил
рябой грузин,
и его мрачные службы и теории.
Это были годы траура и памяти,
годы трезвых бесед и молчанья;
радости было очень мало –
лишь некоторые птицы не знали об этом,
некоторые дети и деревья.
Например, яблонька на нашей улице
беззаботно раскрывала в апреле
белые цветы и взрывалась
экстатическим смехом.
КАНТОР
Он одевался в черное,
как клерк страховой компании,
специалист по делам безнадежным.
Я встречал его на Каноничей,
он спешил обычно к трамваю,
и в Криштофорах, где долго служил он
и торжественно принимал за столиком
других артистов, одетых в черное.
Я думал о нем равнодушно, почти высокомерно,
как некто, еще ничего не совершивший
и осуждающий несовершенство вещей уже существующих.
Но однажды, значительно позже,
я увидел «Умерший класс» и другие спектакли,
и онемел от ужаса и восхищенья –
я увидел систематическое умиранье,
уход, я увидел, как в нас работает время,
время, вшитое в одежду и лохмотья,
и в постепенно смягчающиеся черты лица,
как работает в нас плач и смех,
как работает скука и тоска, как могла бы
жить в нас молитва, если б ее могли мы принять,
что такое и вправду бравурные военные марши,
что такое убийство, чем могло бы быть братство,
и что такое войны, видимые или нет, подлые или нет,
что это значит быть евреем или поляком,
или немцем, а, может быть, попросту человеком,
почему старые люди остаются детьми,
а дети живут в старых телах
на высоком этаже без лифта и стремятся
нам что-то сказать, объявить, но напрасно
стараются, тщетно нам машут серым платочком,
высовываясь из-за порезанной перочинным ножиком парты –
уже знают, что им достаются всего лишь
бесчисленные способы ухода,
пафос бессильной улыбки,
неисчислимые способы прощания с миром,
и даже не слышат, что грязные декорации
поют вместе с ними, несмело поют
и, наверное, в небо вступают.
ПРОЗА МИРА
Представь себе дня начало в «Le Bon Cafe»;
цветные газеты на столиках, из динамика льются
песенки Азнавура. Краткий миг энтузиазма:
игривое французское “r” вибрирует, как юла,
внутри могучего города, столицы империи,
и кажется: миг и растает королева зимы.
Нервные чиновники в стройных костюмах
глотают кипящий кофе, напиток забвенья.
Над городом кружат четыре одиноких самолета.
Стою перед картиной, о которой писал Рильке:
семья акробатов оказалась в пустыне.
Никто не смотрит на них, и их разные штучки
и музыка, скрытая в напряженных мышцах и в бубне,
их прыжки и шутки не послужат здесь ничему.
Это они неуверенно смотрят по сторонам;
молодая женщина справа на картине хотела б
выйти из холста (отошла от своих близких).
Озираются по сторонам, но что ж они могут увидеть?
Снег вокруг нас прикрыл архитектуру власти.
Снег, словно плед, спеленал монументальные зданья
и совсем белы даже узкие головы обелисков.
Тихо дышат под снегом провинциальные деревья,
а пучки свежих листьев смирно спят, ожидая знака.
Жизнью платишь за каждый миг снега, за то, что
бело и за то, что черно, за счастье, за созерцанье.
Вокруг нас простирается проза мира,
а поэзия таится в камерах сердца.
ЗАЩИТА ПОЭЗИИ, et cetera
Да, защита поэзии и высокий стиль, et cetera,
но также и летний вечер в небольшом городке,
когда благоухают сады, а коты спокойно сидят
перед домами, как китайские философы.
Перевод Анатолия Ройтмана